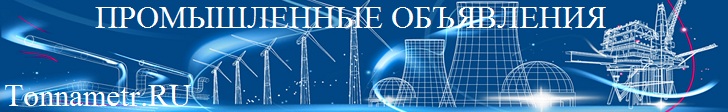Адмиралтейская игла
Бахман
Благость
Бритва
Василий Шишков
Весна в Фиальте
Возвращение Чорба
Волшебник
Встреча
Гроза
Драка
Забытый поэт
Занятой человек
Звонок
Знаки и символы
Истребление тиранов
Как-то раз в Алеппо...
Катастрофа
Картофельный эльф
Королек
Красавица
Круг
Кэмбридж (Эссе)
Ланс
Лебеда
Лик
Музыка
Набор
Нежить
О Ходасевиче (эссе)
Обида
Облако, озеро, башня
Оповещение
Помощник режиссера
Памяти Л.И.Шигаева
Пассажир
Пильграм
Письмо в Россию
Подлец
Порт
Посещение музея
Прозрачные вещи
Путеводитель по Берлину
Рождественский рассказ
Рождество
Сестры Вэйн
Сказка
Слово
Случаи из жизни
Случайность
Совершенство
Соглядатай
Сцены из жизни двойного чудища
Торжество добродетели (эссе)
Тяжелый дым
Уста к устам
Ужас
Что всякий должен знать? (эссе)
Хват
Юбилей (Эссе)
Terra incognita
Владимир Владимирович Набоков. Рассказы, Эссе
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Среда, 2 ноября, 2011г. 22:15:59
Поделиться2Среда, 2 ноября, 2011г. 22:16:51
Адмиралтейская игла
Вы меня извините, милостивая государыня, я человек грубый и прямой, а потому сразу выпалю: не обольщайтесь, - сие письмо исходит вовсе не от поклонника Вашего таланта, - оно, как Вы сейчас удостоверитесь сами, довольно странное и, может статься, послужит не только Вам, но и прочим стремительным романисткам, некоторым уроком. Спешу прежде всего представиться Вам, дабы зримый облик мой просвечивал, вроде как водяной знак что гораздо честнее, чем молчанием потакать тем неправильным заключениям, которые глаз невольно выводит из начертания строк. Нет, - несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых, я жирный, я пожилой; правда, полнота моя - не вялая, в ней есть изюминка, игра, злость. Это Вам, сударыня, не отложные воротнички поэта Апухтина. Впрочем - будет: Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте. А теперь перейдем к сути.
На днях, в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки, - между прочим, Ваш роман."Адмиралтейская Игла". Заглавие ладное, - хотя бы потому, что это четырехстопный ямб,
не правда ли, - и притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще, побаиваюсь книг, изданных в лимитрофах. Все же, говорю я. Ваш роман я взял.
О милостивая государыня, о госпожа Сергей Солнцев, как легко угадать, что имя автора - псевдоним, что автор - не мужчина! Все Ваши фразы запахиваются налево. Пристрастие к таким выражениям, как "время шло" или "зябко куталась в мамин платок", неизбежное появление эпизодического корнета, произносящего "р", как "г", и, наконец, сноски с переводом всем известных французских словечек, достаточно определяют степень Вашей литературной опытности. Но все это еще полбеды.
Представьте себе такую вещь: я, скажем, однажды гулял по чудным местам, где бегут бурные воды и повилика душит столпы одичалых развалин и вот, спустя много лет, нахожу в чужом доме снимок: стою гоголем возле явно бутафорской колонны, на заднем плане - белесый мазок намалеванного каскада, и кто-то чернилами подрисовал мне усы. Откуда это? Уберите эту мерзость! Там воды гремели настоящие, а главное, я там не снимался никогда.
Пояснить ли Вам притчу? Сказать ли Вам, что такое же чувство, только еще глупее и гаже, я испытал при чтении Вашей страшной, Вашей проворной "Иглы"? Указательным пальцем взрывая страницы, глазами мчась по строкам, я читал и только отмигивался, - так был изумлен!
Вы хотите знать, что случилось? Извольте. Грузно лежа в гамаке и беззаботно водя вечным пером (что почти каламбур), Вы, сударыня, написали историю моей первой любви. Изумлен, изумлен, и, так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. Вот мы с Вами пыхтим, ибо несомненно и Вы ошарашены тем, что объявился герой, Вами выдуманный. Нет, я обмолвился... Гарнир - Ваш, положим фарш и соус тоже Ваши, но дичь (опять почти каламбур), дичь, сударыня, не Ваша, а моя, с моей дробинкой в крылышке. Диву даюсь, - где и как неведомой даме удалось похитить мое прошлое? Неужели приходится допустить, что Вы знакомы с Катей, - более того, хороши с ней, - и что она все Вам и выболтала, сумерничая под балтийскими соснами вместе с Вами, прожорливой романисткой? Но как Вы смели, как хватило у Вас бесстыдства, не только использовать Катин рассказ, но еще исказить его так непоправимо?
Со дня последнего свидания прошло шестнадцать с лишком лет, - возраст невесты, старого пса или советской республики. Кстати, отметим первую, но отнюдь не худшую, из Ваших несметных и смутных ошибок: мы не ровесники с Катей, - мне шел восемнадцатый год, - ей двадцатый. Доверясь испытанному методу. Вы заставляете свою героиню обнажиться перед трюмо и затем описываете ее распушенные, пепельные (конечно) волосы и юные формы. По-вашему ее васильковые глаза становились в минуты задумчивости фиалковыми: ботаническое чудо! Вы их оттенили черной бахромой ресниц, которая, добавлю от себя, как бы удлинялась к внешним углам, придавая глазам разрез особенный, но мнимый. Катя была стройна, но слегка горбилась, - приподнимала плечи, входя в комнату. Она у Вас - статная девушка с грудными нотками.
Это мучительно, я думал было выписать Ваши образы, которые все фальшивы, и язвительно сопоставить с ними мои непогрешимые наблюдения, но получается "кошмарная чепуха", как сказала бы настоящая Катя, а именно: логос, отпущенный мне, не обладает достаточной точностью и мощью, чтобы распутаться с Вами; напротив, сам застреваю в липких тенетах Вашей условной изобразительности, и вот уже нет у меня сил спасти Катю от Вашего пера. И все-таки я буду, как Гамлет, спорить, - и переспорю Вас.
Тема Вашего произведения - любовь, слегка декадентская, на фоне начавшейся революции. Катю Вы назвали Ольгой, а меня - Леонидом. Допустим. Наше первое знакомство на елке у общих друзей, встречи на Юсуповском катке, ее комната с темно-синими обоями, мебелью из красного дерева и одним-единственным украшением: фарфоровой балериной, поднявшей ножку, все это так, все это правда, однако Вы умудрились подернуть все это налетом какой-то фасонистой лжи. Занимая свое место в кинематографе "Паризиана", Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье, снимает котелок, и перед читателем - элегантный юноша с пробором по самой середке маленькой, словно налакированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню, действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп, и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: "Мальшик, пашисть!" К тогдашнему платочку и белым гетрам моя память относится ныне с иронией, но вот уж никак не может примирить воспоминание о муках слишком раннего бритья с матовой, ровной бледностью, о которой Вы пишете. И я оставляю на Вашей совести мои лермонтовские глаза и породистый профиль, благо теперь ничего не разобрать, в виду неожиданного ожирения.
Боже, не дай мне погрязнуть в прозе этой пишущей дамы, которой я не знаю и не хочу знать, но которая с поразительной наглостью посягнула на чужое прошлое! Как Вы смеете писать, что "красивая елка, переливаясь огнями, казалось, сулила им радость ликующую"? Вы все потащили своим дыханием, ибо достаточно видного прилагательного, поставленного, ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание. До несчастья, то есть до Вашей книги, таким воспоминанием был для меня зыбкий, мелкий свет в катаных глазах и малиновый отблеск на щеке от глянцевитого домика, висевшего с ветки, когда, отстраняя хвою, она тянулась вверх, чтобы щипком прикончить обезумевшую свечку. Что же теперь мне осталось от этого? Ничего, только тошный душок литературной гари.
По-вашему выходит так, что мы с Катей вращались в каком-то изысканно культурном бомонде. Ошибка на параллакс, сударыня. В среде - пускай светской, к которой Катя принадлежала, вкусы были по меньшей мере отсталые. Чехов считался декадентом, К. Р. - крупным поэтом, Блок - вредным евреем, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях и лиловых ликерах. Какие-то французские и английские стихи ходили в списках по рукам и списывались снова, не без искажений, причем имя автора незаметно выпадало, так что они совершенно случайно приобретали соблазнительную анонимность, да и вообще, их странствования забавно сопоставить с подпольным списыванием крамольных стишков, практиковавшимся в других кругах. О том, сколь незаслуженно эти женские и мужские монологи о любви считались образцами новейшей иностранной лирики, можно судить по тому, что баловнем среди них было стихотворение бедного Лун Буйе, писавшего в середине прошлого века. Катя, упиваясь рокотом, декламировала его и злилась, когда я придирался к звучнейшей строфе, где, назвав свою страсть смычком, автор сравнивает свою подругу с гитарой. Кстати, о гитаре. Вы пишете, мадам, что "по вечерам собиралась молодежь, и Ольга, облокотясь, пела роскошным контральто". Что ж - еще одна смерть, еще одна жертва Вашей роскошной прозы. А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов... Я знаю, что это была цыганщина уже ненастоящая, не та, что пленяла Пушкина, даже не григорьевская муза, а полудышащая, затасканная, обреченная, причем все содействовало ее гибели, и граммофон, и война, и всякие "песенки". Недаром, в очередном припадке провидения, Блок записал какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно.
Сказать ли Вам, что бормотание и жалобы эти значили для нас? Открыть ли Вам образ далекого, странного мира, где, низко склонясь над прудом, дремлют ивы, и страстно рыдает соловушка в сирени, и встает луна, и всеми чувствами правит память - этот злой властелин ложно-цыганской романтики? Нам с Катей тоже хотелось вспоминать, но так как вспоминать было нечего, мы подделывали даль и свое счастливое настоящее отодвигали туда. Мы превращали все видимое в памятники, посвященные нашему - еще не бывшему - былому, глядя на тропинку, на луну, на ивы теми глазами, которыми теперь мы бы взглянули, с полным сознанием невозместимости утрат, на тот старый, топкий плот на пруду, на ту луну над крышей коровника. Я полагаю даже, что по смутному наитию мы заранее кое к чему готовились, учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии, когда это прошлое действительно у нас будет, знать, как обращаться с ним и не погибнуть под его бременем.
Но какое Вам дело до всего этого! Описывая, как я летом гостил в Глинском, Вы загоняете меня в лес и там меня принуждаете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Все это происходило не совсем так. Пока остальные играли в теннис - одним красным мячом и какими-то пудовыми расхлябанными ракетками, найденными на чердаке, или в крокет, на круглой площадке, до смешного плевелистой, с одуванчиком перед каждой дужкой, - мы с Катей иной раз удирали на огород и, присев на корточки, наедались до отвалу: была яркая виктория, была ананасовая - зеленовато-белая, чудесно-сладкая, - была клубника, обмусоленная лягушкой; не выпрямляя спин, мы передвигались по бороздам и кряхтели, и поджилки ныли, и темной, алой тяжестью наполнялось нутро. Жарко наваливалось солнце, - и это солнце, и земляника, и катино чесучовое платье, потемневшее под мышками, и поволока загара сзади на шее, в какое тяжелое наслаждение сливалось все это, какое блаженство было, не поднимаясь, продолжая рвать ягоды, - обнять Катю за теплое плечо и слушать, как она, шаря под листьями, охает, посмеивается, потрескивает суставами. Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закутку, где, сидя в позе роденовского мыслителя, с еще горячей от солнца головой, сочиняю стихи. Они были во всех смыслах ужасно печальны, эти стихи, - в них звучали и соловьи романсов, и кое-что из наших символистов, и беспомощные отголоски недавно прочитанного: Souvenir, Souvenir, que me veux-tu? L automne... (Воспоминание, воспоминание, что ты от меня хочешь? Осень...) - хотя осень еще была далека, и счастье мое чудным голосом орало поблизости, где-то, должно быть, у кегельбана, за старыми кустами сирени, под которыми свален был кухонный мусор и ходили куры. А по вечерам, на веранде, из красной, как генеральская подкладка, пасти граммофона вырывалась с трудом сдерживаемая цыганская страсть, или на мотив "Спрятался месяц за тучку" грозный голос изображал Вильгельма: "Дайте перо мне и ручку, хочу ультиматум писать", а на площадке сада катин отец, расстегнув ворот, выставив вперед ногу в мягком сапоге, целился, как из ружья, в рюхи и бил сильно, но мимо, и заходящее солнце концом последнего луча перебирало по частоколу сосновых стволов, оставляя на каждом огненную полоску. И когда, наконец, наступала ночь и в доме спали, мы из аллеи смотрели с Катей на темный дом и до ломоты засиживались на холодной, невидимой скамейке, и все это казалось нам чем-то уже давным-давно прошедшим, н очертания дома на зеленом небе, и сонное движение листвы, и наши длительные слепые поцелуи.
Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето, Вы конечно ни на минуту не забываете, как забывали мы, что с февраля "страной правило Временное Правительство", и заставляете нас с Катей чутко переживать смуту, то есть вести (на десятках страниц) политические и мистические разговоры, которых - уверяю Вас - мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк: как-то, на Миллионной, грузовик, набитый революционными весельчаками, неуклюже, но все же метко вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробегавшую кошку, она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного, черного лоскута, только хвост был еще кошачий, стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью семнадцатого года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней эмиграции.
Нет, в ту осень, в ту зиму мы не о том говорили. Я погибал. С любовью нашей Бог знает что творилось. Вы это объясняете просто: "Ольга начинала понимать, что была скорей чувственная, чем страстная, а Леонид - наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда нерастаявший кусочек", и так далее, в том же претенциозно-пошлом духе. Что Вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней, но теперь, кабы не боязно было заразиться Вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка, кто скорей домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин, и всякая живая, дневная мелочь этого последнего русского лета надрываясь кричала нам: вот я - действительность, вот я - настоящее".И пока все это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашейge] любви не шла дальше той преданности не- бывшему былому, о которой я уже упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпадал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой, смесью снега и навоза, без которой я не мыслю русского города, изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания.
Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах но очень скользкой панели, как на ходулях. - или в темном, закрытом платье, сидящую на синей кушетке, с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной морозной, сизой от звезд ночи невозмутимые и неизменные вехи моего пути, все те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику вполоборота, как становится все, что прекрасно: оно не видит вас, оно задумчиво и рассеянно, оно отсутствует. Я говорил сам с собой, увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора, и когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, ко не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своем нарядном меховом пальто, в котелке набекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то, всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, припоминал, спешно собирая все это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик, и особенно картавый выговор, появлявшийся, когда она без нужды переходила на французский, и неуязвимую слабость к титулованным стихам, и злобное, тупое выражение ее глаз, смотревших на меня исподлобья, когда я в сотый раз допрашивал ее, с кем она провела вчерашний вечер... И как только все это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, и что никаким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер - пробиваясь сквозь матросский контроль на углах, требовавший документов, которые все равно давали мне пропуск только до порога Катиной души, а дальше были бессильны, я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую, твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечавшую на фарфоровом языке. И когда, наконец, в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала, осталась неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество, и я, дослушав тишину до конца, встал и вышел. Спустя три дня я послал ей со слугой записку, писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу, и вот, помню, как восхитительным утром с розовым солнцем и скрипучим снегом, мы встретились на Почтамтской, я молча поцеловал ей руку, н с четверть часа, не прерывая ни единым словом молчание, мы гуляли взад и вперед, а на углу бульвара стоял и курил, с притворной непринужденностью, весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ней молча ходили взад и вперед, и прошел мальчик, таща санки с рваной бахромкой, и загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил, и затем, на той же как раз точке, где мы встретились, я так же молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел - уже по-настоящему. Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь, прощай, прощай, моя любовь. Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта, мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся никогда... Да-да, прощай... Ты все-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельна, несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений, и тысячу мелких предательств, а я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью, был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. И нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты, с бликом на губе и светом в волосах, смотришь мимо меня. Катя, отчего ты теперь так напакостила?
Давай поговорим спокойно и откровенно. С печальным писком выпушен воздух из резинового толстяка и грубияна, который, туго надутый, паясничал в начале этого письма, да и ты вовсе не дородная романистка в гамаке, а все та же Катя - с рассчитанной порывистостью движений и узкими плечами, - миловидная, скромно подкрашенная дама, написавшая из глупого кокетства совершенно бездарный роман. Смотри - ты даже прощания нашего не пощадила! Письмо Леонида, в котором он грозит Ольгу застрелить и которое она обсуждает со своим будущим мужем; этот будущий муж в роли соглядатая, стоящий на углу, готовый ринуться на помощь, если Леонид выхватит револьвер, который он сжимает в кармане пальто, горячо убеждая Ольгу не уходить и прерывая рыданиями ее разумные речи, - какое это все отвратительное, бессмысленное вранье! А в конце книги ты заставляешь меня попасться красным во время разведки и с именами двух изменниц на устах - Россия, Ольга, - доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. Крепко же я любил тебя, если я все еще вижу тебя такой, какой ты была шестнадцать лет тому назад, и с мучительными усилиями стараюсь вызволить наше прошлое из унизительного плена, спасти твой образ от пытки и позора твоего же пера! Но не знаю, право, удается ли мне это. Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так и жарила наизусть, помнишь? "Увидев почерк мой. Вы верно удивитесь..." Однако я удержусь, не кончу призывом "здесь море ждет тебя, широкое, как страсть, и страсть, широкая, как море..." - потому что, во-первых, здесь никакого моря нет, а во-вторых, я вовсе не стремлюсь тебя видеть. Ибо после твоей книги я, Катя, тебя боюсь. Ей-Богу, не стоило так радоваться и мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе. Послушай меня, не пиши ты больше! Пускай это будет хотя бы уроком. "Хотя бы" - ибо я имею право желать, чтобы ты замерла от ужаса, поняв содеянное. И еще, знаешь, что мечтается мне? Может быть, может быть (это очень маленькое и хилое "может быть", но, цепляясь за него, не подписываю письма), может быть, Катя, все-таки, несмотря ни на что, произошло редкое совпадение, и не ты писала эту гниль, и сомнительный, но прелестный образ твой не изуродован. Если так, то прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев.
Берлин, 1933 г.
Поделиться3Среда, 2 ноября, 2011г. 22:17:46
Бахман
Не так давно промелькнуло в газетах известие, что в швейцарском городке Мариваль, в приюте св. Анжелики, умер, миром забытый, славный пианист и композитор Бахман, Я вспомнил по этому поводу рассказ о женщине, любившей его, переданный мне антрепренером Заком. Вот этот рассказ.
Госпожа Перова познакомилась с Бахманом лет за десять до его смерти. В те дни золотой, глубокий, сумасшедший трепет его игры запечатлевался уже на воске, а заживо звучал в знаменитейших концертных залах. И вот, однажды вечером,- в один из тех осенних прозрачно-синих вечеров, когда больше боишься старости, нежели смерти,- Перова получила от приятельницы записку: "Я хочу показать тебе Бахмана. Сегодня после концерта он будет у меня. Приходи".
Я особенно ясно представляю себе, как надела она черное, открытое платье, быстрым движеньем надушила себе шею и плечи, взяла веер, трость с бирюзовым набалдашником, и посмотревшись напоследок в тройную бездну трюмо, задумалась и оставалась задумчивой всю дорогу от дома своего до дома подруги. Она знала, что некрасива, не в меру худа, что бледность ее кожи болезненна,- но эта стареющая женщина с лицом неудавшейся мадонны была привлекательна именно тем, чего больше всего стыдилась,- бледностью губ и едва заметной хромотой, заставлявшей ее всегда ходить с тростью. Муж ее, страстный и острый делец, был в отъезде. Лично господин Зак его не знал.
Когда Перова вошла в небольшую, фиолетовым светом залитую гостиную, где тяжело перепархивала от гостя к гостю ее приятельница, тучная, шумливая дама в аметистовой диадеме,- ее внимание тотчас же привлек высокий, бритый, слегка напудренный господин, который стоял, облокотившись на выступ рояля, и что-то рассказывал трем дамам, подошедшим к нему. Хвосты его фрака были на добротной, особенно пухлой, шелковой подкладке, и разговаривая он то и дело откидывал темные, маслянистые волосы, раздувая при этом крылья носа,- бледного, с довольно изящной горбинкой. Во всей его фигуре было что-то благосклонное, блистательное и неприятное.
- Акустика ужасная!- говорил он, дергая плечом,- а публика вся сплошь простужена. Не дай Бог кому-нибудь кашлянуть, моментально несколько человек подхватят, и поехало...- Он улыбнулся, откидывая волосы.- Это, знаете, как ночью, в деревне, собаки.
Перова подошла, легко опираясь на трость, и сказала первое, что пришло ей в голову:
- Вы, наверно, устали, господин Бахман, после вашего концерта?
Он поклонился, очень польщенный:
- Маленькая ошибка, мадам. Моя фамилия - Зак. Я только импрессарио нашего маэстро.
Все три дамы рассмеялись. Перова смутилась и рассмеялась тоже. Об удивительной игре Бахмана она знала только понаслышке и портрета его не видала. В эту минуту к ней хлынула хозяйка, обняла и таинственно, одним движеньем глаз, указав в глубину комнаты, шепнула: - Вот он... посмотри...
И только тогда она увидела Бахмана. Он стоял в стороне от остальных гостей и, расставя короткие ноги в мешковатых черных штанах, читал газету, придвинув к самым глазам мятый лист и шевеля губами, как это делают при чтении полуграмотные. Был он низкого роста, плешивый, со скромным зачесом поперек темени, в отложном крахмальном воротничке, слишком для него широком. Не отрываясь от газеты, он рассеянно проверил одним пальцем ту часть мужской одежды, которая у портных зовется гульфик, и зашевелил губами еще внимательнее. Был у него очень смешной, маленький, круглый подбородок, похожий на морского ежа.
- Не удивляйтесь,- сказал Зак.- Он в буквальном смысле неуч: как придет в гости, так сразу берет что-нибудь и читает.
Бахман вдруг почувствовал, что все смотрят на него. Он медленно повернул лицо и, подняв растрепанные брови, улыбнулся чудесной, робкой улыбкой, от которой по всему лицу разбежались мягкие морщинки. Хозяйка поспешила к нему:
- Мсье Бахман, позвольте вам презентовать еще одну из ваших поклонниц,- госпожу Перову. Он сунул ей свою бескостную, сыроватую руку: - Очень приятно, очень даже приятно... И опять уткнулся в газету.
Перова отошла. Розоватые пятна выступили у нее на скулах. От радостного движения черного, блестевшего стеклярусом веера затрепетали светлые завитки на висках. Зак мне потом рассказывал, что в тот первый вечер она произвела на него впечатление необыкновенно темпераментной,- как он выразился,- необыкновенно издерганной женщины, даром, что губы и прическа были у нее такие строгие.
- Эти двое друг друга стоили,- передавал он мне со вздохом.- Бахман-то, и говорить нечего, совершенно был лишен мозгов. А главное - пил, знаете. В тот вечер, когда они встретились, мне пришлось быстро,- прямо-таки на крыльях,- увести его, так как он вдруг потребовал коньяку,- а ему нельзя было, нельзя было. Мы же просили его: пять дней не пей, только пять дней,- т. е. пять концертов, вы понимаете... Ангажемент, Бахман, держись... Что вы думаете, ведь даже какой-то поэт в юмористическом журнале срифмовал "У стойки" и "Неустойки". Мы буквально из сил выбивались. И притом - капризный, знаете, фантастичный, грязненький. Совершенно ненормальный субъект. Но играл...
И Зак молча закатывал глаза, тряся поредевшей гривой.
Просматривая с господином Заком тяжелый, как гроб, альбом газетных вырезок, я убедился, что именно тогда, во дни первых встреч Бахмана с Перовой, началась настоящая, мировая,- но какая короткая - слава этого удивительного человека. Когда и где Перова сошлась с ним,- этого никто не знает. Но после вечера у приятельницы Перова стала бывать на всех концертах Бахмана, в каком бы городе они ни давались. Сидела она всегда в первом ряду, прямая, гладко причесанная, в черном, открытом платье. Некоторые ее называли так; хромая мадонна.
Бахман выходил на эстраду быстро,- как будто вырвавшись из вражеских или просто надоедливых рук. Не глядя на публику, он подбегал к роялю и, нагнувшись над круглым стулом, принимался нежно вращать деревянный диск сиденья, отыскивая какую-то математическую точку высоты. При этом он убедительно и тихо ворковал, усовещевая стул на трех языках. Возился он так довольно долго, В Англии это умиляло публику, во Франции смешило, в Германии - раздражало. Найдя точку, Бахман легонько и ласково хлопал ладонью по стулу,- и садился, нашаривая педали подошвами старых лакированных туфель. Потом доставал просторный несвежий платок и, тщательно вытирая им руки, оглядывал с лукавой и вместе с тем робкой улыбкой первый ряд. Наконец, он мягко опускал руки на клавиши. Но вдруг вздрагивал страдальческий живчик под глазом: цокнув языком, он сползал со стула и снова принимался вращать нежно скрипящее сиденье.
Зак думает, что, в первый раз прослушав Бахмана и вернувшись к себе домой, Перова села у окна и просидела так до зари, вздыхая и улыбаясь. Он уверяет, что еще никогда Бахман так хорошо, так безумно не играл, и что потом, с каждым разом, он играл все лучше и все безумнее. С несравненным искусством Бахман скликал и разрешал голоса контрапункта, вызывал диссонирующими аккордами впечатление дивных гармоний и - в тройной фуге - преследовал тему. изящно и страстно с нею играя, как кот с мышью,- притворялся, что выпустил ее, и вдруг, с хитрой улыбкой нагнувшись над клавишами, настигал ее ликующим ударом рук. Потом, когда его ангажемент в том городе кончился, он, как всегда, на несколько дней исчез, запил.
Посетители сомнительных кабачков, ядовито пылавших в тумане угрюмого предместья, видели плотного низенького господина с растрепанной плешью и глазами, мокрыми, розовыми, как язвы, который садился всегда в сторонку, но охотно угощал всякого, кто пристанет к нему. Старичок-настройщик, давно погибший человек, несколько раз повыпив с ним, решил, что это брат по ремеслу, ибо Бахман, опьянев, барабанил пальцем по столу и тонким голосом брал очень точное "ля". Случалось, что скуластая деловитая проститутка уводила его к себе. Случалось, что он вырывал у кабацкого скрипача инструмент, топтал его и был за это бит. Знакомился он с картежниками, матросами, атлетами, нажившими себе грыжу,- а также с цехом тихих, учтивых воров.
Ночами напролет Зак и Перова его разыскивали. Впрочем Зак искал только тогда, когда нужно было "завинтить" его,- т. е. приготовить к концерту. Иногда находили, иногда же, осоловевший, грязный, без воротника, он сам являлся к Перовой; она молча и ласково укладывала его спать и только через два-три дня звонила Заку, что Бахман найден.
В нем сочеталась какая-то неземная робость с озорством испорченного ребенка. С Перовой он почти не говорил. Когда она увещевала его, брала за руки, он вырывался, хлопал ее по пальцам, пискливо вскрикивая, словно легчайшее прикосновенье причиняло ему раздражительную боль, и потом долго плакал, накрывшись одеялом. Появлялся Зак, говорил: надо ехать в Лондон, в Рим,- и Бахмана увозили.
Три года продолжалась их странная связь. Когда Бахмана, кое-как освеженного, подавали публике, Перова неизменно сидела в первом ряду. Во время далеких гастролей они останавливались в смежных номерах. Несколько раз за это время Перова видалась с мужем. Он, конечно, знал, как знали все об ее восторженной и верной страсти, но не мешал, жил своею жизнью.
- Бахман мучил ее,- настойчиво повторял мне господин Зак.- Непонятно, как она могла его любить. Тайна женского сердца! Я видел собственными глазами, как в одном доме, где они были вместе, маэстро вдруг защелкал на нее зубами, как обезьяна, и знаете - за что? Она хотела ему поправить галстук. Но играл он в те дни гениально. К тому времени относится его симфония D-молль и несколько сложных фуг. Никто не видел, как он писал их. Самая интересная - так называемая "Золотая фуга". Слыхали? Тематизм в ней совершенно своеобразный. Но я говорил об его капризах, об его растущем помешательстве. Ну так вот. Прошло, значит, два года. И вот однажды в Мюнхене, где он выступал...
И Зак, подходя к концу своего рассказа, все печальнее, все внушительнее щурился.
Оказывается, что в ночь приезда в Мюнхен Бахман удрал из гостиницы, где, как обычно, он остановился вместе с Перовой. Через три дня должен был состояться концерт, и потому Зак находился в истерической тревоге. Поиски ни к чему не привели. Дело было поздней осенью, хлестал холодный дождь. Перова простудилась и слегла. Зак с двумя сыщиками продолжал исследовать кабаки.
В день концерта позвонили из полиции, что Бахман найден. Он был ночью подобран на улице и в участке отлично выспался. Зак молча повез его из участка в театр, сдал его там, как вещь, своим помощникам, а сам поехал в гостиницу за фраком. Перовой через дверь он доложил о случившемся. Потом вернулся в театр.
Бахман. надвинув на брови черную фетровую шляпу, сидел в артистической и печально стучал пальцем по столу. Вокруг него суетливо шептались. Через час в огромной зале публика стала занимать места. Светлая белая эстрада, с лепными украшениями по бокам в виде органных труб, и блестящий черный рояль, поднявший крыло, и скромный гриб стула ожидали в торжественной праздности человека с мокрыми мягкими руками, который сейчас наполнит ураганом звуков и рояль, и эстраду, и огромный зал, где, как бледные черви, двигались, лоснились женские плечи и мужские лысины.
И вот Бахман вбежал. Не обратив внимания на грохот приветствий, поднявшийся, как плотный конус, и рассыпавшийся на отдельные потухающие хлопки, он стал вращать, жадно воркуя, деревянный диск стула, и, погладив его, сел за рояль. Вытирая платком руки, он робкой улыбкой окинул первый ряд. Внезапно улыбка исчезла, и Бахман поморщился. Платок упал на пол. Он опять внимательно скользнул глазами по лицам; глаза его споткнулись на пустом месте посредине ряда. Тогда Бахман захлопнул крышку, встал, вышел вперед, к самому краю эстрады, и, закатив глаза, подняв, как балерина, согнутые руки, сделал два-три нелепых па. Публика застыла. В глубине вспыхнул смех. Бахман остановился, что-то проговорил, чего никто не расслышал, и затем, широким дугообразным движением показал всему залу кукиш.
- Это произошло так внезапно,- рассказывал мне Зак,- что я просто не успел прилететь на помощь. Я столкнулся с ним, когда после фиги - фиги вместо фуги- он удалялся со сцены. Я спросил: Бахман, куда? Он сказал нехорошее слово и шмыгнул в артистическую.
Тогда Зак сам вышел на эстраду,- и встречен был бурей гнева и гогота. Он выставил вперед ладонь и, добившись молчания, твердо обещал, что концерт состоится. Когда он вернулся в артистическую, то увидел, что Бахман, как ни в чем не бывало, сидит у стола, и, шевеля губами, читает программку.
Зак, взглянув на присутствующих и значительно поведя бровью, метнулся к телефону и позвонил Перовой. Он долго не мог добиться ответа; наконец что-то щелкнуло, и донесся ее слабый голос.
- Приезжайте сию же минуту,- затараторил Зак, стуча ребром руки по телефонному фолианту,- Бахман без вас не хочет играть. Ужасный скандал! Публика начинает- что вы?- да-да,- я же говорю: не хочет. Алло! А, черт! Разъединили...
У Перовой был сильный жар. Доктор, посетивший ее в этот день дважды, с недоумением смотрел на ртуть, так высоко поднявшуюся по красным ступенькам в горячем стеклянном столбике. Повесив телефонную трубку,- аппарат стоял у постели,- она, вероятно, радостно улыбнулась. Дрожа и покачиваясь, принялась одеваться. Нестерпимо кололо в груди, но сквозь туман и жужжанье жара звала радость. Мне почему-то кажется, что, когда она стала натягивать чулки, шелк цеплялся за ногти ее холодных ног. Кое-как причесавшись, запахнувшись в коричневую шубу, она, звякая тростью, вышла, весела швейцару кликнуть таксомотор. Черный асфальт блестел. Ручка автомобильной дверцы была ледяная и мокрая. Всю дорогу она, верно улыбалась смутной и счастливой улыбкой,- и шум мотора и шипение шин сливались с жарким жужжанием в висках. Когда подъехала к театру, то увидела: толпы людей, открывая на ходу сердитые зонтики, вываливаются на улицу. Ее чуть не сшибли с ног. Протиснулась. В артистической Зак ходил взад и вперед, хватая себя то за левую щеку, то за правую.
- Я был в состоянии бешенства!- рассказывал он мне.- Пока я бился у телефона, маэстро бежал. Сказал, что идет в уборную, и улизнул. Когда Перова приехала, я набросился на нее,- зачем не сидела в театре. Понимаете, я абсолютно упустил из виду, что она больна. Спрашивает: "Так, значит, он сейчас дома? значит, мы разъехались?" А я был в состоянии бешенства и кричу: "Какое там, черт, дома! В кабаке. В кабаке. В кабаке!" Потом я махнул рукой и убежал. Нужно было спасать кассира.
И Перова, дрожа и улыбаясь, поехала разыскивать Бахмана. Она знала приблизительно, где искать его, и туда-то, в темный, страшный квартал, повез ее удивленный шофер. Доехав до той улицы, где, по словам Зака. накануне нашли Бахмана, она отпустила таксомотор и, постукивая тростью, пошла по щербатой панели, под косыми потоками черного дождя. Заходила она подряд во все кабаки,- взрывы грубой музыки оглушали ее, мужчины к ней нагло поворачивались,- она оглядывала дымное, кружащееся, разноцветное зальце и опять выходила в хлещущую ночь. Вскоре ей стало казаться, что она заходит все в один и тот же кабак, и мучительная слабость легла ей на плечи. Она шла, хромая и чуть слышно мыча, зажав в озябшей руке бирюзовую шишку трости. Полицейский, некоторое время следивший за ней, подошел медленными профессиональными шагами, спросил ее адрес; властно и мягко подвел ее к черному ландо ночного извозчика. В зловонном, ухающем сумраке ландо она потеряла сознание, к. когда очнулась, дверца была открыта, и кучер, в блестящей, клеенчатой накидке, концом кнутовища легонько тыкал ее в плечо. Потом, когда она очутилась в теплом коридоре, ее охватило чувство полного равнодушия ко всему. Она толкнула дверь своего номера, вошла, Бахман, босой, в ночной рубахе под холмом клетчатого одеяла, накинутого на плечи, сидел у нее на постели, и, барабаня двумя пальцами по мраморной доске ночного столика, ставил химическим карандашом точки на листке нотной бумаги. Он был так поглощен этим, что не заметил, как отворилась дверь. Перова испустила легкий, ахающий стон. Бахман встрепенулся. Одеяло поползло с его плеча.
Я думаю, это была единственная счастливая ночь во всей жизни Перовой. Думаю, что эти двое, полоумный музыкант и умирающая женщина, нашли в эту ночь слова, какие не снились величайшим поэтам мира. Когда, на следующее утро. негодующий Зак явился в гостиницу, он нашел Бахмана, глядевшего с восторженной тихой улыбкой на Перову, которая лежала без сознания под клетчатым одеялом поперек широкой постели. Неизвестно о чем думал Бахман, глядя на пылающее лицо подруги и слушая ее судорожное дыхание; вероятно, он понимал по-своему волнение ее тела, трепет и жар болезни, мысль о которой не приходила ему в голову. Зак вызвал доктора. Бахман сперва недоверчиво, с робкой улыбкой глядел на них, потом вцепился доктору в плечо, отбежал, хлопнул себя по лбу и заметался, лязгая зубами. Она умерла в тот же день, не приходя в сознание. Выражение счастья так и не сошло у нее с лица. На ночном столике Зак нашел скомканную страницу нотной бумаги, но фиолетовые точки музыки, рассыпанные по ней, никто не мог разобрать.
- Я увез его сразу,- рассказывал мне Зак,- я боялся приезда мужа, сами понимаете. Бедняга Бахман, он был, как тряпочка, и все затыкал себе уши. Вскрикивал, как будто его щекотали: "Не надо звуков, звуков не надо!.." Я не знаю, собственно, что потрясло его так: между нами говоря, он никогда не любил этой несчастной женщины. Как никак, она погубила его, Бахман после похорон исчез бесследно. Теперь вы еще найдете его имя в объявлениях пианольных фирм, но вообще-то он забыт. Только через шесть лет нас снова столкнула судьба. На один момент. Я ждал поезда на маленькой станции в Швейцарии. Был, помню, роскошный вечер. Я был не один. Да,- женщина. Но это уже из личной оперы. И вот, представьте себе, вижу, собралась небольшая толпа, окружила человека,- низенького роста, в черном пальтишке, в черной шляпе. Он совал монету в щелку музыкального автомата и при этом плакал навзрыд. Сунет, послушает мелкую музыку и плачет. Потом что-то испортилось. Монета застряла. Он стал расшатывать ящик, громче заплакал, бросил, ушел. Я узнал его сразу,- но, понимаете, я был не один, с дамой. кругом народ, любопытные,- неудобно было подойти, сказать: "Здравствуй, Бахман..."
Поделиться4Среда, 2 ноября, 2011г. 22:18:56
Благость
Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки,- одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу - что-то крошилось, потрескивало под ногой,- и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие как клочья рваных знамен, вдоль покатого стекла. Впустив утро - прищуренное, жалкое,- я рассмеялся, сам не зная чему,- быть может тому, что вот я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина,- и думал о тебе.
Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил - не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.
Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я Две недели не видел тебя.
Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина- очертанья их менялись, благодаря неверным внутренним переливам стекла,- и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновенье легкую изумленную осеннюю синеву. Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.
Когда после обеда я вышел на улицу - встретить тебя,- голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.
Я шел и думал о том, что верно на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.
Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах - мутная тошнота, что бывает, когда натощак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже (колен. И еще другие.
Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.
А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток - открытки, планы, веера цветных снимков,- а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом,- и тоже ждала.
Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится - покупатель или ты. У старушки был вид вот какой: "Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то лоток - очень хорошие, любопытные вещицы. Но я - ничего..."
Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушала ему: купи, купи...- но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.
Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза,- и нарочно не смотрел, дорожил самообманом,
Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика - желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась книга - путеводитель по Берлину,- и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.
Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.
А старушка уселась снова, и так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.
Прошло уже с час,- быть может больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.
Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.
И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движеньем подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину его зеленое плечо.
Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком - если судить по коричневой бахроме пенки, приставшей к краю.
И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца,- и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась,- и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.
Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась к окну,- отдать пустую кружку.
Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась она обратно к лотку, выдернула две цветные открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.
Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим,- и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами.
И в этот миг, наконец, ты пришла, вернее не ты, а чета немцев,- он в непромокаемом плаще, ноги в длинных чулках - зеленые бутылки,- она худая, высокая, в пантеровом пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка, раскрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена пожала плечом, оттянула его за рукав,- и тогда-то заметил я, что она на тебя похожа,- сходство было не в чертах, не в одежде,- а вот в этой брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они пошли дальше, ничего не купивши,- а старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки, углубилась опять в свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь по вечереющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения,- вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади: ловил я и собирал все это, и крупные, косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить.
Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лязгнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов,- и я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.
В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких, частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стукались наверху об крышу срываемые ветром каштаны: ток - и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного счастия повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка,- и снова одиноко падал круглый каштан,- погодя падал я второй, стукаясь и катясь по крыше: ток... ток...
Поделиться5Среда, 2 ноября, 2011г. 22:20:41
Бритва
Недаром в полку звали его: Бритва. У этого человека лицо было лишено анфаса. Когда его знакомые думали о нем, то могли его представить себе только в профиль, и этот профиль был замечательный: нос острый, как угол чертежного треугольника, крепкий, как локоть, подбородок, длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов.
В той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Нередко бывает, что человек по фамилии
Штейн становится превосходным минералогом. И капитан Иванов, попав, после одного эпического побега и многих пресных мытарств, в Берлин, занялся именно тем, на что его давняя кличка намекала,- цирюльным делом. Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где кроме него стригли и брили двое подмастерий, относившихся с веселым уважением к "русскому капитану", и был еще сам хозяин - кислый толстяк, с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы,- и рще малокровная, прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла от прикосновении к бесчисленным человеческим пальцам, ложившимся по пяти штук сразу на бархатную подушечку перед ней. Иванов работал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно: ставить после одной фразы вопросительное "нихт?" ( Нет (нем.)) а после следующей вопросительное "вас?" (Что (нем.)) - и потом опять "нихт?" итак далее, вперемежку. И замечательно, что, хотя он научился стричь только в Берлине, ухватки у него были точно такие же, как у российских стригунов, которые, как известно, много стрекочат ножницами впустую - пострекочат, нацелятся, отхватят клок, другой, и опять быстро, быстро, словно по инерции, продолжают хлопотать лезвиями в воздухе. Его коллеги уважали его как раз за этот щегольский звон.
Ножницы да бритва, несомненно, холодные оружия, и этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человек он был злопамятный и неглупый. Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог. В душе у него, как туго свернутая пружина, сжималась до поры до времени месть.
Однажды, в очень жаркое, сизое, летнее утро, оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отпросились на часок, а сам хозяин, умирая от жары и давно зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую, на все согласную маникюршу. Иванов, оставшись один в светлой парикмахерской, просмотрел газету и потом, закурив, вышел, весь белый, на порог и стал глядеть на прохожих.
Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, которые ломались на краю панели и бесстрашно скользили под сверкавшие колеса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, подобные узорчатым шкуркам змей. И вдруг прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую.
Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу - в профиль, вполоборота, потом восковой лысиной, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк, черный котелок. И когда господин повернулся лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на которых золотом и зеленью отливали флаконы, Иванов мгновенно узнал это подвижное, пухлявое лицо, с пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого крыла носа.
Господин молча сел перед зеркалом и, промычав что-то, постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило: бриться. Иванов, в каком-то тумане изумления, завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, надгубье, осторожно обошел родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену,-и все это делал машинально - так Он был потрясен встретить опять этого человека.
Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти.
И, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал:
- Мое почтение, товарищ. Давно ли вы из наших мест? Нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать.
Мерцательные колесики заходили быстрее, взглянули на острый профиль Иванова, остановились.
Иванов тупым краем бритвы снял лишнее хлопье пены и продолжал:
- Я вас очень хорошо помню, товарищ... Простите, вашу фамилию мне неприятно произнести. Помню, как вы допрашивали меня, в Харькове, лет шесть тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой... Но, как видите, я жив.
И тогда случилось следующее: глазки забегали и вдруг плотно закрылись. Человек зажмурился, как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим.
Иванов нежно водил бритвой по шуршащей, холодной щеке. - Мы совершенно одни, товарищ. Понимаете ? Вот, не так скользнет бритва, и сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови, очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбрито, и кроме того хочу вам кое-что рассказать. Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой.
- Дело вот в чем, товарищ: я все помню, отлично помню и хочу, чтобы и вы вспомнили...
И тихим голосом Иванов стал рассказывать, неторопливо брея неподвижное, откинутое назад лицо. И этот рассказ, должно быть, был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел, как мертвый, прикрыв выпуклые веки.
- Вот и все,- вздохнул Иванов.- Вот и весь рассказ. Как вы думаете, чем можно искупить все это? С чем сравнивают острую шашку? И еще подумайте: мы совершенно одни, совершенно одни.
- Покойников всегда бреют,- продолжал Иванов, снизу вверх проводя лезвием по его натянутой шее.- Бреют и приговоренных к смертной казни. И теперь я брею вас. Вы понимаете, что сейчас будет?
Человек сидел не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах, я около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал было, не хватил ли его паралич, но, когда он плашмя приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл.
Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона.
- Будет с вас,- сказал он спокойно.- Я доволен, можете идти.
С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть.
- Вставай, дура! - крикнул Иванов и поднял его за рукав. Тот застыл, с плотно закрытыми глазами, посредине зальца. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку - и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся, его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах; как автомат, он переступил порог двери, которую Иванов держал открытой, и все той же механической походкой, сжимая вытянутой одеревеневшей рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы, как у греческих статуй, глазами,- ушел. -------------
Впервые рассказ был опубликован в газете "Руль" (Берлин) 19 февраля 1926 г.
Поделиться6Среда, 2 ноября, 2011г. 22:21:48
Василий Шишков
Мои воспоминания о нем сосредоточены в пределах весны сего года. Был какой-то литературный вечер. Когда, воспользовавшись антрактом, чтобы поскорее уйти, я спускался по лестнице, мне послышался будто шум погони, и, обернувшись, я увидел его в первый раз. Остановившись на две ступени выше меня, он сказал: - Меня зовут Василий Шишков, Я поэт. Это был крепко скроенный молодой человек в русском роде толстогубый и сероглазый, с басистым голосом и глубоким, удобным рукопожатием.
- Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами,- продолжал он,- желательно было бы встретиться.
Не избалованный такими желаниями, я отвечал почти умиленным согласием, и было решено, что он на следующий день зайдет ко мне в гостиницу. К назначенному часу я сошел в подобие холла, где в это время было сравнительно тихо,- только изредка маневрировал судорожный лифт, да в обычном своем углу сидело четверо немецких беженцев, обсуждая некоторые паспортные тонкости, причем один думал, что он в лучшем положении, чем остальные, а те ему доказывали, что в таком же. (Потом явился пятый, приветствовал земляков почему-то по-французски,- юмор? щегольство? соблазн нового языка? Он только что купил себе шляпу, и все стали ее по очереди примерять).
С серьезным выражением лица и плеч осилив неповоротливые двери, Шишков едва успел осмотреться, как увидел меня, и тут приятно было отметить, что он обошелся без той условной улыбки, которой я так боюсь, хотя сам ей подвержен. Не без труда я сдвинул два кресла, и опять было приятно- оттого что, вместо машинального наброска содействия, он остался вольно стоять, выжидая, пока я все устрою. Как только мы уселись, он достал палевую тетрадь.
- Прежде всего.- сказал он, внимательно глядя на меня своими хорошими мохнатыми глазами,- следует предъявить бумаги,- ведь правда? В участке я показал бы удостоверение личности, а вам мне приходится предъявить вот это,- тетрадь стихов.
Я раскрыл се. Крепкий, слегка влево накрененный почерк дышал здоровьем и даровитостью. Увы, как только мой взгляд заходил по строкам, я почувствовал болезненное разочарование. Стихи были ужасные,- плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм. Достаточно сказать, что сочетались такие пары, как "жасмина" и "выражала ужас мина", "беседки" и "бес едкий", "ноктюрны" и "брат двоюрный",- а о темах лучше вовсе умолчать: автор с одинаковым удальством воспевал все, что ему попадалось под лиру. Читать подряд было для нервного человека истязанием, но так как моя добросовестность усугублялась тем, что автор твердо следил за мной, одновременно контролируя очередной предмет чтения, мне пришлось задержаться на каждой странице.
- Ну как,- спросил он, когда я кончил,- не очень плохо?
Я посмотрел на него. Никаких дурных предчувствий его слегка блестевшее, с расширенными порами, лицо не выражало. Я ответил, что стихи безнадежны. Шишков щелкнул языком, сгреб тетрадь в карман и сказал:
- Бумаги не мои, то есть я-то сам написал, но это так, фальшивка. Все тридцать сделаны сегодня, и было довольно противно пародировать продукцию графоманов. Теперь зато знаю, что вы безжалостны, то есть, что вам можно верить. Вот мой настоящий паспорт. (Шишков мне протянул другую тетрадь, гораздо более потрепанную), прочтите хоть одно стихотворение, этого и вам и мне будет достаточно. Кстати, во избежание недоразумений, хочу вас предупредить, что я ваших книг не люблю, они меня раздражают, как сильный свет или как посторонний громкий разговор, когда хочется не говорить, а думать. Но вместе с тем вы обладаете, чисто физиологически, что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, то есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы к сожалению применяете по-пустому, в небольшую меру ваших общих способностей... разъезжаете, так сказать, по городу на сильной и совершенно вам ненужной гоночной машине и все думаете, куда бы еще катнуть... Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться,- потому-то я и хотел бы заручиться вашей помощью в одном деле, но сначала, пожалуйста, взгляните.
(Признаюсь, неожиданная и непрошеная характеристика моей литературной деятельности показалась мне куда бесцеремоннее, чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее конкретных денег, и, хотя этот второй пункт должен подразумевать так или иначе существование потребителя, однако, чем больше, в порядке естественного развития, отдаляются мои книги от их самодовлеющего источника, тем отвлеченнее и незначительнее мне представляются их случайные приключения, и уж на так называемом читательском суде я чувствую себя не обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется странной фамильярностью, а хула - праздным ударом по призраку. Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору Шишков так вываливает свое искреннее мнение или только со мной не стесняется, считая, что я это заслужил. Я заключил, что, как фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но несомненной, жаждой правды, так и его суждение обо мне диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной откровенности.)
Я почему-то боялся, что в подлиннике найдутся следы недостатков, чудовищно преувеличенных в пародии, но боялся я напрасно. Стихи были очень хороши,- я надеюсь как-нибудь поговорить о них гораздо подробнее. Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность... Поэту, столь странно охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога - вроде, например, "в солдатских мундирах".
- Знаете что,- сказал Шишков,- раз вы согласны со мной, что моя поэзия нс пустяки, сохраните у себя эту тетрадку. Мало ли что может случиться, у меня бывают странные, очень странные мысли, и... словом, я сейчас только подумал, что так очень хорошо складывается. Я собственно шел к вам, чтобы просить вас участвовать в журнале, который затеваю,- в субботу будет у меня собрание, и должно все решиться. Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала вас заинтересует со стилистической стороны,- так что приходите. Между прочим, будет (он назвал очень знаменитого русского писателя), еще кое-кто. Понимаете, я дошел до какой-то черты, мне нужно непременно как-то разрядиться, а то сойду с ума. Мне скоро тридцать лет, в прошлом году я приехал сюда, в Париж, после абсолютно бесплодной юности на Балканах, потом в Австрии, Я переплетчик, наборщик, был даже библиотекарем,- словом, вертелся всегда около книги. А все-таки я жил бесплодно, и с некоторых пор мне прямо до взрыва хочется что-то сделать,- мучительное чувство,- ведь вы сами видите,- может, с другого бока, но все-таки должны видеть,- сколько всюду страдания, кретинизма, мерзости,- а люди моего поколения ничего не замечают, ничего не делают, а ведь это просто необходимо, как вот дышать или есть. И поймите меня, я говорю не о больших, броских вещах, которые всем намозолили душу, а о миллионах мелочей, которых люди не видят, хотя они-то и суть зародыши самых явных чудовищ. Вот, например, недавно,- эта мать, которая, потеряв терпение, утопила двухлетнюю девочку в ванне, и потом сама выкупалась,- ведь не пропадать же горячей воде. Боже мой, сравните с "посолеными щами", с тургеневской синелью... Мне совершенно все равно, если вам кажется смешным, что количество таких мелочей, каждый день, всюду, разного калибра, разной формы, хвостиками, точками, кубиками,- может так волновать человека, что он задыхается и теряет аппетит,- но, может быть, вы все-таки придете.
Наш разговор я здесь соединил с выдержками из пространного письма, которое Шишков мне прислал на другой день в виде подкрепления. В субботу я слегка запоздал, и, когда вошел в его столь же бедную, как и опрятную комнату, все уже были в сборе, не хватало только знаменитого писателя. Из присутствующих я знал в лицо редактора одного бывшего издания; остальные,- обширная дама (кажется, переводчица или теософка) с угрюмым маленьким мужем, похожим на черный брелок, двое потрепанных господ в Маd'овских пиджаках и энергичный блондин, видимо приятель хозяина,- были мне неизвестны. Заметив, что Шишков озабоченно прислушивается, заметив далее, как он решительно и радостно оперся о стол и уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квартиру, я искренне пожелал прихода знаменитости, но она так и не явилась. "Господа",- сказал Шишков,- и стал довольно хорошо и интересно развивать свои мысли о журнале, который должен был называться "Обзор Страдания и Пошлости" и выходить ежемесячно, состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей соответствующего рода, причем требовалось их размещать в особом, "восходящем" и вместе с тем "гармонически незаметном", порядке. Бывший редактор привел некоторые цифры и выразил уверенность, что журнал такого типа не окупится никогда. Муж обширной литераторши, сняв пенсне, страшно растягивая слова и массируя себе переносицу, сказал, что, если уж бороться с человеческим страданием, то гораздо практичнее раздать бедным ту сумму, которая нужна для основания журнала,- и гак как эта сумма ожидалась от него, то прошел холодок. Затем приятель хозяина, гораздо бойчее и хуже, повторил в общих чертах то, что говорил Шишков. Спросили и мое мнение; видя выражение лица Шишкова, я приложил все силы, чтобы поддержать его проект. Разошлись непоздно. Провожая нас на площадку, Шишков оступился и несколько долее, чем полагалось для поощрения смеха, остался сидеть на полу, бодро улыбаясь, с невозможными глазами.
Через несколько дней он опять меня посетил, и опять в углу четверо толковали о визах, и потом пришел пятый и бодро сказал: "Bonjour, Monsieur Weiss, bonjour. Monsieur Meyer". На мой вопрос Шишков рассеянно и даже как-то нехотя ответил, что идея журнала признана неосуществимой и что он об этом больше не думает.
- Вот что я хотел вам сказать,- заговорил он после стесненного молчания,- я все решал, решал и, кажется, более или менее решил. Почему именно я в таком состоянии, вам вряд ли интересно,- что мог, я объяснил вам в письме, но это было применительно к делу, к тому журналу... Вопрос шире, вопрос безнадежнее, Я решил, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. Сунуться в Россию? Нет- это полымя. Уйти в монахи? Но религия скучна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да кроме того боюсь последствий, которые и не снились любомудрию Гамлета. Значит остается способ один - исчезнуть, раствориться.
Он еще спросил, в сохранности ли его тетрадь, и вскоре затем ушел, широкоплечий, слегка все-таки сутулый, в макинтоше, без шляпы, с обросшим затылком,- необыкновенно симпатичный, грустный, чистый человек, которому я не знал, что сказать, чем помочь.
Через неделю я покинул Париж и едва ли не в первый день по возвращении встретил на улице шишковского приятеля. Он сообщил мне престранную историю: с месяц тому назад "Вася" пропал, бросив все свое небольшое имущество. Полиция ничего не выяснила,- кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют "картой".
Так это и осталось. На случае, с которого начинаются криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишкове. Скудные биографические сведения, добытые у его случайного приятеля, я записал,- они когда-нибудь могут пригодиться. Но куда же он все-таки исчез? Что вообще значили эти его слова- "исчезнуть", "раствориться"? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он "прозрачность и прочность такой необычной гробницы"?
Париж. 1940 г.
Отредактировано Галатея (Среда, 2 ноября, 2011г. 22:23:57)